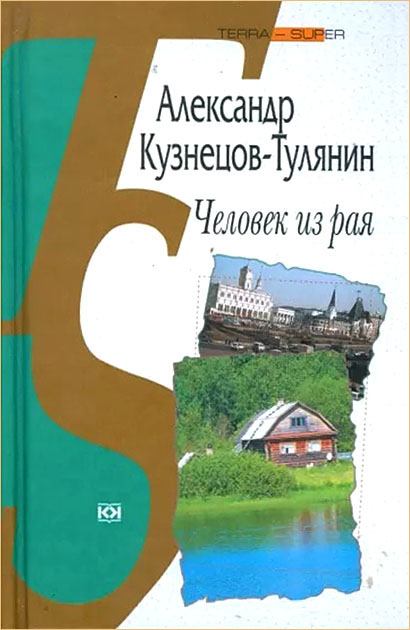у тебя не было заблуждений: пойманная рыба, та, которая в садках, – на мне. Что наловят после меня, мне до фонаря. А эта – моя. Я отвечаю. Так что гудбай…
– Круто, – кивнул Зосятко.
– Круто бывает, когда орехов объешься.
Капитан ушел к шлюпке. А через некоторое время СРТМ снялся с якоря и направился в море, забирая влево, обесцвечиваясь светло-серым корпусом, сливаясь с солнечной позолотой на горизонте.
– Уходят? – удивился Жора, но Бессонов возразил:
– Нет, пошли на Тятинский рейд. Сначала там выгребут. – Он помолчал и добавил то, что изначально было предрешено: – Можно бегать и бегать за ними, а все равно они возьмут свое. Все это и правда пустое. Теперь затихни, Жора, тебе еще рыбачить… Таня, – позвал он. Она вышла из-за полога. – Я завтра домой ухожу, пойдешь со мной?
Она кивнула и чуть пожала плечами, что, может быть, означало: куда я денусь.
– Тогда собирайся… Хотя что там собирать…
* * *
Ночь прибывала исподволь, а до ночи Бессонов маялся, ходил на берег, подолгу смотрел в море. Оно подступало к ногам: волнами и приливом, надвигалось на берег, оно дважды надвигалось каждые сутки, и Бессонов думал, что эти наступления и отступления похожи на медленное дыхание или сердцебиение исполина.
К ночи притащились Валера с Удодовым, в лесу переспавшие первое забытье. Второй раз напиться они еще не успели и теперь находились в том плавучем состоянии, когда человек не чует под собой тверди, не чует самого себя, а только памятью знает: то, что колышется под ногами, – это все-таки земная тропа, а то, что так раздуто пульсирует, – голова. Они зачерпнули по ковшу воды и жадно пили, вода, булькая, вливалась в них, в их высушенные кожаные мешки и заново пьянила опухшие головы. Отпившись и набрякнув фиолетовыми физиономиями, опьянев, они разместились на улице, на лавке перед деревянным столом.
Жора налаживал костер. И тогда Бессонов подхватил рыбный ящик, поставил к столику, уселся верхом напротив Удодова.
– Ну что, ханурики. А ну-ка, наливай. – Сидел прямо, злобновато-веселый, и ждал, даже не столько ждал, сколько желал – или выпада в свою сторону, или хотя бы колкого слова. Но Валера и Удодов совсем сникли. Удодов провис согбенным туловищем, впал грудью, и челюсть его отяжелела с левой стороны опухолью. А Валера тихо наклонился под лавку, выставил на столик полуторалитровую пластиковую бутылку, наполненную на две трети.
– Этот уже разбавлен.
– Это все? – притворно скривился Бессонов. – А где остальное? Жора, – он обернулся, – ты посмотри на жуков.
– Остальное тоже есть… – промолвил Удодов.
– Неси. Ты разве не знаешь правил?
Удодов подумал и с тяжестью добавил:
– Ты выльешь.
– Ишь ты… – усмехнулся Бессонов. – И ты не боишься такое мне сейчас говорить?
Валера молча встал и ушел, вернулся минут через пять, принес канистру. Бессонов взял ее, поболтал. Было оттуда уже изрядно отлито. Бессонов насмешливо покачал головой:
– Все-таки заначили? – Поставил канистру у своей ноги, а в кружки налил из бутылки, поднял свою кружку. – Ну что, бригадир, хорошо я крестил тебя на бригадирство?
– Отмотайся, – буркнул Удодов, пряча глаза.
– Носи на здоровье.
Бессонов выпил жгучую жидкость, разбавленную водой весьма экономно, и зажмурился, провожая спирт, его течение в себя, в те закоулки, которые обычно и не чувствуются никогда, а тут вдруг отозвавшиеся теплом. Подсел к столику Жора, пришла Таня, принесла миску с вареными кусками рыбы, тоже села сбоку, взяла кружку. Жора понюхал спирт и стал притворно сокрушаться:
– Это напиток?.. Это напиток? Как его русские пьют?
– А чем тебе не напиток? – поднял брови Бессонов. – В этом пойле тоже солнышко – оно же из дерева, а дерево не в пещере выросло.
– Ты называешь солнышком тусклый шарик, который светит в тайге? – Жора чокнулся с ним и выпил. Бессонов тоже выпил и стал думать, пока трезво и даже расчетливо, подогревая в себе эти мысли, что с пьянкой, вместо того чтобы расслабиться, совсем озвереет, вытравится у него из души человек.
– Вся ночь впереди, – сказал он. Мысли текли будто слоями, каждая на своей глубине: где-то осознание своей правоты, где-то уязвленное самолюбие, где-то фантазии мести. Однако не успел он достаточно опьянеть, как в темном морском просторе прибавилось света: принялась подниматься, выпирать из моря, пока еще малиново и приглушенно, полная луна, а чуть погодя из-за мыса замотало прожекторным лучом. Бессонов вышел на берег, долго всматривался. Но у барака шумели, и он пошел дальше, остановился у камней, где плескались только волны и тянуло ветром, сменившим дневные разбухавшие от жары преюще-спелые запахи на ночные свежие потоки. Комары пели над головой, у лица, спешили урвать своего, пока не дунуло с моря посильнее. И Бессонов будто очнулся и увидел, почувствовал все это, хотя и был уже изрядно пьян, – почувствовал запахи, свежесть, комаров, а может быть, не почувствовал, а с опьяненной сентиментальностью только вообразил себе все это. И тут Таня подошла к нему, обняла за пояс, стала горячо говорить что-то. Но опять в море замотался прожекторный луч, и Бессонов не слушал ее, пытался убрать обнимавшие его руки.
– Подожди… – Отошел от нее на полшага, всматриваясь в море. Она же цеплялась еще сильнее, и он с силой оторвал ее от себя, схватил за руки, развернул к себе, чтобы сказать что-то резкое, но увидел лицо в слезах, и тогда только смысл ее слов прорвался в него:
– Семён, уйдем! Прямо сейчас уйдем. Я не могу здесь, прошу тебя, уйдем… Соберем вещи и уйдем. Пешком… Хоть как.
Он отстранил ее, почти отпихнул, чувствуя, как шевельнулось в нем раздражение к женщине.
– Да что ты говоришь такое?! – Или не к ней раздражение, а к тому, что происходило в море, – не раздражение, а уже почти бешенство, когда он наконец понял, что там все-таки происходило. Он зашагал, почти побежал к бараку. – Жора! Готовь кунгас!.. Нас грабят. Ах же суки… Они сами к неводам вышли, на шлюпчонках своих…
Жора поднялся из-за стола…
В море, когда там поняли, что кунгас отошел от берега: наверное, щупали берег локатором, – прожекторный луч опять развернулся, мигнул три раза. И немного погодя еще помигал. Луна разлилась по воде до самого горизонта, но вот увидеть что-то в мерцании, в ночной чешуе океана было совершенно невозможно. Бессонов в рост стоял в носу кунгаса, держался за битенг, а в другой руке держал заряженное ружье, орал Жоре, но орал все-таки просто так, для ухарства:
– Наддай, Жора! Банзай!..
Две шлюпки прорезали лунную свинцовую муть темными силуэтами в том месте, где головку невода венчал садок. Бессонов на ходу, не целясь, выстрелил выше силуэтов – с подспудной мыслью, что дробь на таком расстоянии рассеется. Жора заложил вираж, обходя шлюпки справа, заглушил мотор, кунгас по инерции еще скользил, вздымаясь и опускаясь на спокойных пологих изгибах. Бессонов крикнул:
– Что же ты, надо было ближе! У меня только дробь, – и закричал в море, в темнеющие корпуса шлюпок: – Курвы! А ну!..
Несколько секунд спустя ударило ответным выстрелом. Но стреляли прицельно – хлестнуло в борт кунгаса, обшивка развернулась внутрь белой щепастой розой.
– Винторезом бьют, – рассудительно сказал Жора. Он сидел прямо, не меняя положения.
– А-а-а!.. – рыкнул Бессонов и теперь выстрелил, приложив приклад к плечу, в ближайший силуэт. Но не знал, достала дробь до шлюпки и тех слитых с лунным сиянием людей, которые там были, или заряд увяз в воздухе и веером сыпанул на воду. Криков оттуда не было – наверное, не достала.
– Жора, заводи! Подходи ближе!
Жора принялся дергать шнур, однако зажигание не схватывалось. От шлюпок намного раньше послышался стрекот, они стали отходить. Бессонов больше не стрелял.
– Хорош… – сказал он.
Жора завел мотор, они подошли к неводу. Бессонов перегнулся через борт, стал хвататься за большие балберы и подтягивать кунгас к садку, а там опустил руки в воду, чувствуя приятную прохладу ее, поймал сеть и принялся вытягивать, насколько мог, на борт, потом достал складной нож, большой, с длинным, почти как у испанской навахи, клинком, сделанный на совесть знакомым мастером, и стал резать дель – не спеша, вдумчиво, делая не просто прорехи, а выхватывая большие куски из стен садка. Жора не помогал,